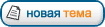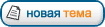|
Замечательный рассказ, который мог написать если и не геолог, то естественник как минимум.
Галина - незабываемый образ. Напоминает какую-нибудь доморощенную алтайскую шаманку. И если б только ее грозовые стояния на скалах, где флагеллянсткая Тема сродни камланию. Не перфоманс ни в коем случае (как у одного очень известного художника, прибивавшего себя за…(сами помните, что) к брусчатке Красной площади), а квазирелигиозный, идейный акт. Своеобразный активный поиск новой идентичности на фоне утраты прежней, советской – вот где они, девяностые, во всей красе)!
Она же еще и не ест – не объедает то есть, наверное, уж небогатую, но, очевидно, очень правильную, полезную, по ее мнению, кампанию. Тут просто как звезды сошлись – совпали ее камлания с наследуемым с советских времен, врожденным альтруизмом. Особенно улыбнуло то, что при простецкой такой, рабочей, приземленной специальности повара, она указывает на плакат с подписью «Это странное место – Камчатка». Надо полагать, с энтузиазмом указывает, как бы с надеждой на будущие открытия. Нисколько не удивило бы, если б дома у этой женщины пылился где-нибудь в шкафу диплом инженера, трудовая книжка с какого-нибудь завода и даже почти новый, не успевший поистрепаться партбилет.
Вот эти три штриха, линии в портрете, все вместе, как они важны! Кто помнит 90-ые, их начало не по кино и книгам, для них такие персонажи – явная и очень узнаваемая примета времени. За счет ее образа рассказ становится исторически точным. И вообще такого рода попадания – залог того, что произведения искусства могут составлять культурную ценность как ценные свидетельские показания для потомков.
Рассказ в целом довольно историчен: афганец пока еще как нечто из ряда вон, коммунист уже православный, еще не вполне привычный доморощенный японист – только фоном. Они могли проявиться, уже слегка наскучившими, и десять лет спустя, и более. Но вот когда бы еще могли попасть на Камчатку американцы, да с такой целью, которая обычно первой ставится по окончанию войны, хоть самой что ни на есть настоящей, хоть «холодной»? И когда бы, по совпадению с этим, уже проходили первые тематические вечеринки – догадаться нетрудно.
Странно разве что на сегодняшнее восприятие звучит причина изгнания Ксанки и Димона из клуба, навевает вопросы: то ли существенный ДС-крен был вообще присущ первому поколению посетителей порковечеринок, то ли столь ревностное отношение к «облико морале» тематиков было присуще какой-то одной из БДСМ-тусовок. То ли эта борьба «за чистоту рядов» и раскольничество не имеет никаких исторических отсылок, а просто характерная особенность любого узкого пассионарного круга. Позднее, думаю, автор объяснит.
Что касается понравившегося многим суслика, то и он, кажется, в какой-то мере историчен: упоминался в статье в числе прочих тамошних приколов, влившихся в состав «афганских» анекдотов и военного фольклора.
Относительно красоты слога. Соглашусь с Ликой: слушать и читать увлеченного той или иной спецификой рассказчика почти так же интересно, как смотреть на огонь или наблюдать за работой, выполняемой с любовью, с чувством, с толком, с расстановкой. Тогда уже практически все равно, что не понимаешь все до тонкостей, все равно улавливается то, что в данной профессии накладывает отпечаток на мировоззрение. Изменяет ракурс восприятия, заставляя видеть красивое в мертвых, по сути, ландшафтах, из обыденной речи время просачивается то, что можно было б принять за непонятно чем милый слуху акцент, все вместе дает по-своему живописную, харАктерную картинку сообщества, особого мира. Было б у читателя желание только открывать для себя видения этих новых, не фантастических, а реально существующих миров. Но это уже дело умонастроения, интерес - штука сугубо добровольная.
Кому-то показалось, что язык слишком сух. Кому-то – что рассказ переполнен, набит всеми этими «особенностями» слишком плотно. А мне так, наоборот, очень даже по нраву, что язык и стиль изложения сам о себе не думает, не смотрится безотрывно в зеркало, следя за своей красотой, над ним не довлеет желание понравиться, он не выходит на первый план, затмевая содержание. Короче, язык здесь нерукотворный, несделанный, и слава богу, естественно вытекающий из того самого мира, по ходу приобретающий оттенки среды бытования.
Членить изложение и вовсе не понимаю, к чему здесь. Не буду бурчать про недовольных тем, что «много букв». Всему свое место – и миниатюре, и эпопее. Имеющийся в этом рассказе ход изложения – гармоничен по отношению к содержанию, не слишком прост, но и без зауми – язык внимательного наблюдателя. Не слишком лиричен, но под стать тому, о чем речь – о людях увлеченных. Своего читателя, уверена, что не единичного, он нашел и еще найдет.
И вот что про увлечения… В обсуждениях высказывалась мысль о том, что этот рассказ в первую голову про поиски идеального верхнего. Оно, конечно, так. И интересен результат этих поисков. Вот, вроде бы уж настоящий верхний найден. Но тут оказывается, что порка для него - детский лепет. Понятно, да? Все дело не в том, что нетематик не хочет порки, что она для него неприемлема, а в том, что для человека сильного она оказывается недостаточно сильной, недостаточно экстремальной, недостаточно увлекательной практикой.
Ну то есть поиски зашли в тупик, перешли ту грань, за которой меняется искомое качество. Пусть в рамках предположения, гипотезы, но это все-таки ответ на вопрос, мучающий многих авторов-тематиков. И, кажется, еще нигде такого ответа не было. Представьте вот себе, что верхов с сильным характером не бывает. Только представьте. Почему нет? Такой вот вариант итогов поиска очень даже возможен. Ирония или насмешка судьбы. Возможно, Ксанка именно такие выводы для себя сделала, почему и вернулась к своему мямле Димону, решив поиски прекратить.
Или все-таки это о другом? Вот Ксанка – вроде бы последовательный тематик. И в экспедицию отправляется с целью осуществить свой поиск идеального верхнего, и вернувшись, не бросает Темы, не разочаровывается. Понятно, что геология для нее – не призвание, а увлечение, что-то да она видит и чувствует, но не живет по полной этим. Примерно так и с Темой может быть – со временем. Тема для нее – попутное, не главное из того, что она ищет. И это тоже повод – авантюры и поиски идеального верхнего прекратить.
Или почему так произошло? Неужто потому, что Ксанка слишком слабая и глупая, слишком искусственная по сравнению с чем-то настоящим, сильным? Или Тема со всеми ее условностями является для этого «афганца» (а заодно и для автора) чем-то слишком примитивным, игрушечным? Похоже, что тут автор-рассказчик, слишком много знающий о Теме для непосвященного, как бы притворяется нетематиком, благодаря чему рассказ становится универсальным, в равной мере доступным понимаю и тематика, и нетематика.
И это правильно. Хороший уровень литературы – это не пропаганда, и для него нет «ни эллина, ни иудея». О том, что тематическая литература закономерно должна была к такой всеобщности и открытости для читателя любой ориентации прийти, и это вовсе не означает катастрофического чего-то, я писала еще в первые дни пребывания на форуме. Как перестали быть малоизвестными и непонятными сами тематические практики, отношение к тематикам пристально подозрительным, так и тематическая литература неизбежно перестает быть замкнутой внутри узкого читательского круга.
|